Люсина жизнь, стр. 17
И она на деле доказывает это.
Боже, где мы только не побывали в этот вечер! Даже успели сбегать в лес к Ивану леснику и к его матери с которым у меня теперь установились самые приятельские отношения. Только к самому ужину вернулись домой.
За столом сидела среди членов моей семьи и новая гувернантка. Но я мало обратила внимания на нее. Ах, мы обе так устали, и я и моя новая взрослая подруга Ганя. Иначе, как подругой и сверстницей, я положительно не могла ее считать. Разгоряченные, красные со свежими, довольными лицами мы с завиднейшим аппетитом убирали за ужином к немалому удовольствию бабушки холодных цыплят, колбасы домашнего производства и желтый румяный варенец.
— Наши-то девочки, как будто и совсем познакомились в добрый час сказать, — пробасила Анна Афанасьевна, умильно поглядывая своими маленькими заплывшими глазками то на меня, то на Ганю.
— Потому что я люблю Ганю, — неожиданно ни к селу ни к городу выпаливаю я, добросовестно обгладывая лапку цыпленка.
— Вот и славно, вот и расчудесно, моя цыпочка, — неизвестно почему обрадовалась гувернантка и снова раскатилась на всю комнату своим хохочущим басом.
Бабушка, папа и тетя Муся, присутствовавшие за столом, улыбались также.
— Досадно только, что завтра придется уезжать! — звучит в моих ушах минутой позднее снова грубый бас гувернантки.
— Как завтра? Ганя уедет завтра? Уже завтра? Не может быть! Не может быть! — лепечу я с искренним отчаянием. И сразу теряю аппетит.
Мои родные переглядываются с улыбками:
— Что делать! Так надо… Надо жить не так как хочется, а как Бог велит, милая Люсенька, — говорит бабушка. Ганя низко наклоняет голову над тарелкой. Мне кажется обидным, что она так легко может покинуть меня. Без тени сожаленья как будто, а между тем как хорошо нам было с нею вдвоем.
Обиженная ухожу в детскую после ужина. Горничная Ольга раздевает меня.
— Позови Ганю… — шепчу я ей тихо уже лежа в своей мягкой, уютной кроватке.
— Ладно, постелю постель новой гувернантке, тогда и позову — соглашается Ольга.
— Постель гувернантке? Значит, она будет спать со мною? — с отчаянием говорю я.
— Старая барыня так приказали! — невозмутимо отвечает Ольга.
О, Господи! Этого еще не доставало!
В моей маленькой уютненькой детской поселится эта огромная, неприятная мне особа с басистым голосом, с шумными манерами и лоснящимся от жиру лицом. Но ведь это же ужас. Это… это… Моя мысль отказывается подсказать, что это такое. Я валюсь головой в подушки, зарываюсь в них лицом поглубже и стараюсь ничего не слышать и не видеть. Теперь и приход самой Гани для меня не мил. Я рассеянно и холодно целую ее милое, личико. Что мне пользы теперь в ней!.. Завтра на заре, пока я еще буду спать, она уедет. И я никогда не увижу ее больше. Ну и пусть уезжает, раз не желает остаться, несмотря на все мои просьбы, со мною.
И я совсем равнодушно по-видимому отвечаю на ее поцелуи, в то время как сердце мое замирает от боли: так бы, кажется и вцепилась в ее платье и ни на шаг не отпустила бы ее от себя. Чтобы утешить меня, она начинает мне рассказывать историю. Хорошую такую жалостную историю о молодой девушке сироте, которая чуть ли не с детских лет принуждена давать уроки и служить в конторе, чтобы содержать старую мать. Под ее ровный тихий голос я засыпаю. Засыпаю крепко и сладко здоровым сном набегавшегося за день ребенка.
Просыпаюсь, открываю глаза и вспоминаю сразу все происшедшее. Приезд великанши гувернантки, дружбу и веселое времяпровождение с Ганей и мое с нею прощанье… Вспоминаю и то, что ее уже нет… Она уехала… Слезы непроизвольно выступают у меня на глазах и текут по щекам. Я не плачу, не хочу плакать, но слезы текут сами собою. Сквозь их пелену бросаю взгляд в ту сторону, где находится постель гувернантки. В голове мелькает мысль: Сейчас, сейчас увижу ее — большую, страшенную, красную…
И вот слезы останавливаются сами собою.
В полумраке комнаты, созданном опущенной синей шторой, я вижу нечто совсем другое. Что-то маленькое и хрупкое, свернувшись калачиком, лежит в постели гувернантки. А с подушки свешивается какой-то странный предмет. Не то коса, не то черный жгутик. Радостное предчувствие заставляет сильно забиться мое неугомонное сердце. Вскакиваю с постели и, стрелой перелетев комнату, бросилась на чужую кровать.
«Так и есть, Ганя! Не уехала! Не уехала, пожалела меня, значит, осталась на день, может быть, на два, на три на неделю…»
И радужная надежда уже плетет свой душистый пестрый венок…
— Ганя! Ганя! — кричу я, вся охваченная радостным волнением, — Ганя, Ганя! Проснитесь скорее, я здесь, я с вами!
Девушка вздрагивает от неожиданности, открывает испуганные глаза, такие милые, голубые, добрые глазоньки и, узнав меня, неожиданно прижимает к себе.
— Ну, вот — наконец-то догадалась, маленькая Люся! — говорит она между поцелуями.
— Что догадалась? Что? — делаю я большие глаза.
Она смотрит на меня пристально и вдруг начинает неудержимо смеяться.
— Да, ведь гувернантка то твоя не мама, а я.
— Что-о-о-о! Что вы сказали? — шепчу я, не смея еще довериться моему слуху.
— Гувернантка — я, — повторяет Ганя, — а мама только провожала меня, чтобы устроить у вас. Она страшно меня любит, Люся, и очень беспокоилась, отправляя меня на место. Сегодня она уехала с первым поездом на заре, обратно в Петербург, в тот дом, где служит экономкой, я ее проводила, и как видишь, улеглась снова в постель. Ну, что ты рада, маленькая, что я остаюсь с тобою?
Рада ли я? И она еще могла меня спрашивать об этом, моя милая Ганя!
Молча, без слов, обвила я ручонками ее шею и стала целовать без конца ее щеки, лоб, нос и глаза.
А она с тихим, счастливым смехом возвращала мне мои ласки, гордая сознанием своей победы над сердцем такой взбалмошной и характерной девочки, какой была в то время ваша покорная слуга.
Потом мы стали одеваться и умываться взапуски, кто скорее. Молились вместе Богу перед большим образом Нерукотворного Спаса. Пили молоко на террасе. А там начинался рай. Рай веселых прогулок, бесед и игр с Ганей, с моей добренькой, с моей тихой скромной Ганей, к которой я успела привязаться, как к родной.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЕЕ ОТРОЧЕСТВО
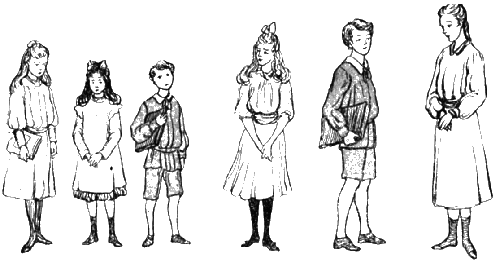
I
Пестрый день
Зима. Славная, снежная, студеная, такая мягкая с ее морозцами и с белым лебяжьим пухом, рассыпанным по полям. Как-то незаметно она наступила, как-то легко и неслышно подкралась, словно на цыпочках, с шорохом морозца в лесу и в поле с легким ломким треском речного льда. Люблю зиму. Люблю ее белые невинные сугробы, пощипывание колючего студеного воздуха, и всю ее северную покоряющую глаз красоту!
Маленькие санки стрелой несутся по белой, как сахар, дороге. Быстро перебрасывая ногами, летит Буря. Василий, в русском желтом ямщицком тулупе, туго опоясанный красным поясом, поворачивает ко мне улыбающееся из-под круглой шапки лицо.
— Любо ль, так-то, барышня Люсенька?
— Еще, еще быстрее, Василий, миленький. Ой, как хорошо! — кричу я.
Но темные брови Гани хмурятся…
— Не так скоро, не так скоро… Долго ли до греха, можем упасть… разбиться.
— Нет, нет, — звонко возражаю я, — ни за что не упадем, ни за что не расшибемся. Ни за что! Василий опытный, он знает! Он все знает.
И опять несемся… Несемся так быстро, что захватывает дыхание в груди. Безумно радостно, беззаветно хорошо мне в эти минуты!
Эти две-три версты, отделяющие «Милое» от «Анина», мы минуем в какие нибудь пятнадцать минут. Ужасно короткий срок для меня, ненасытной любительницы такой отчаянно быстрой скачки! Вот подкатили к стильной ограде графского сада. По усыпанной желтым песком поверх заледенелого снега дорожке мы идем к главному входу. Чьи-то смеющиеся рожицы прилипли со стороны комнат к оконным стеклам. Забавно сплющены побелевшие носы. Сверкают издали белые зубы. Я машу им муфтой. Они машут руками. Бесшумно распахивается перед нами дверь. Старый почтенный Антон впускает нас в вестибюль, меня и Ганю. Здесь топится камин. С красных стен приветливо глядят оленьи головы стеклянными глазами, ветвисто раскинув служащие вешалками рога. И мохнатое огромное чучело мишки, бурого медведя, протягивает вперед серебряное блюдо с визитными карточками.
