Этюды об ученых, стр. 42
– Не беда! – воскликнул физик. – Я тебе всe расскажу!
– Да что ты мне можешь рассказать?! – отозвался Ландау. – Меня же физика интересует…
В самом Институте физических проблем, в институте, которому Ландау отдал тридцать лет жизни, остроумие – признак «хорошего тона», определитель морального здоровья, юмор там – средство воспитания, сатира – острое орудие товарищеской критики.
Есть люди, которые считали Ландау этаким чудаковатым учёным, прообразом рассеянных героев скверных книг о науке. Он мог явиться на официальный приём в ковбойке или прийти летом в Художественный театр в сандалиях. Тут так заманчиво поговорить о «ниспровержении устоев», ломке «приличий», «оригинальности» и «самобытности». А по-моему, эти самые ковбойки тоже характер. Это звучит парадоксом, но мне почему-то представляется, что ковбойки Дау сродни его знаменитой термодинамической теории фазовых переходов второго рода или не менее знаменитой макроскопической теории сверхтекучести жидкого гелия. Ведь там тоже ниспровержение устоев, но уже не внешнее, а глубочайшее, тоже ломка физических «приличий», высшее проявление оригинальности ума и самобытности методов. Характер не дробится от этих бытовых «забав», а дополняется ими.
Последний раз я видел Льва Давидовича у него дома в день, когда отмечалось его 60-летие. Пришли гости. Знаменитые гости, «звезды» советской физики: П. Л. Капица, И. К. Кикоин, А. И. Алиханов, А. Б. Мигдал, А. А. Абрикосов, Э. Л. Андроникашвили. Много в тот вечер шутили, вспоминали разные проделки юбиляра. Потом он извинился и оставил гостей, поднялся к себе в кабинет, лёг. И веселье как-то сразу заглохло.
Примерно через три месяца, 2 апреля 1968 года, Ландау умер. Оторвавшийся от стенок сосуда тромб вызвал смерть неожиданную и быструю. Он поразил Дау как шальная пуля. В тот день академик А. Б. Мигдал написал: «Умер один из удивительнейших физиков нашего времени. В наш век специализации науки это был, быть может, последний из учёных, занимавшийся всеми областями теоретической физики». Мне кажется, это очень точно сказано. Вряд ли можно назвать среди учёных всего мира столь универсального физика… Но, может быть, он сидит где-нибудь в университетской аудитории, а мы ещё просто не знаем, что он уже существует.
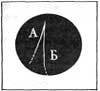
Дмитрий Менделеев:
«ИСКАЛ И НАШЁЛ»

Периодическая система элементов приснилась Менделееву во сне. Уже много месяцев и так и этак раскладывал он карточки, где выписаны были их свойства, чувствовал: есть между ними какая-то связь, должна быть! Накануне целую ночь простоял он у конторки, за которой обычно писал, и лишь под утро, предельно утомлённый, не раздеваясь, повалился на диван и уснул. Здесь и явилась ему таблица. Менделеев обрадовался во сне и тотчас проснулся. На первом попавшемся листке набросал он свои великие столбики и сразу понял – нашёл!
Он был сторонник изнуряющего стиля в работе, всем доказывал, что непрерывные, долгие и упорные усилия необходимы, даже если это вредит здоровью. В 26 лет, работая над книгой «Органическая химия», он не отходил от письменного стола почти два месяца. Знаменитые свои «Основы химии» писал тоже неистово. Склонившись над бумагой, кричал во весь голос, угрожая математической формуле: «У-у-у! Рогатая! Уж какая рогатая! Я те одолею!… Убью-у!» В его трудолюбии, терпении и упорстве была какая-то богатырская русская былинность. И когда называли его гением, он морщился, махал руками и ворчал:
– Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений…
Поворчать он любил. В лаборатории бранил студентов:
– Ни одна кухарка не работает так грязно, как вы…
В Менделееве удивительным образом сочетались нежность и несносность. Верный признак человеческой доброты – привязанность к детям. «Много испытал я в жизни, но не знаю ничего лучше детей, – говорил Менделеев. – Чем бы и как бы серьёзно я ни был занят, но я всегда радуюсь, когда кто-нибудь из них войдёт ко мне…» Вечно возился с мальчишками и девчонками, устраивал им праздники, ёлки, кормил, одаривал. Резкость же своего характера он с улыбкой объяснял тем, что раздражение таить в себе вредно:
– Ругайся себе направо-налево и будешь здоров.
Вот Владиславлев (бывший ректор университета) не умел ругаться, всё держал в себе и скоро помер…
Однажды он пришёл в Палату мер и весов в большом раздражении и накричал буквально на всех, до сторожей включительно. Потом в кабинете сел в кресло, улыбнулся и сказал весело:
– Вот как я сегодня в духе!
Люди, близко его знавшие, говорили, что резкость его натуры более всего угнетала его самого и кричал-то он в общем на себя. Это понимали те, кто жил с ним или подолгу работал. Может быть, поэтому он неохотно менял прислугу, служителей, лаборантов. Долгие годы у него был свой портной, сапожник, переплётчик.
Всемирно признанный учёный, он очень нервничал и волновался на лекциях во время демонстрации опытов. Всё казалось ему: не получится, конфуз выйдет. Начинал шептать лаборанту, суетиться. А читал прекрасно. Вовсе не гладко, скорее даже коряво, без пафоса, но в каждом слове билась мысль. Он то говорил на высоких теноровых нотах, то вдруг переходил на низкий баритон, то быстро, то тянул, останавливался, искал слово. В речи его были удивительно ясные, образные неправильности:
– Гораздо реже в природе и ещё в меньшем количестве – оттого и более дорог, труда больше.
Он мог запросто увлечься, отойти от темы, начать фантазировать и вдруг спохватывался и, оглядев с улыбкой ряды студентов, говорил виноватым тоном:
– Это я все наговорил лишнее, вы не записывайте…
Студенты не просто любили Дмитрия Ивановича, они боготворили его. Экзамены сдавать ему было трудно. Когда принимали вдвоём с Бутлеровым, к Бутлерову очередь, а к Менделееву идти робели. И всё-таки очень любили его. Импонировал его убеждённый демократизм. Однажды на экзаменах (студенты вызывались по алфавиту) один студент, подойдя к столу, представился: «Князь В».
– На букву К я экзаменую завтра, – резко сказал Менделеев.
Именно его попросили студенты передать петицию-протест, адресованную правительству. Менделеев отвёз её министру Делянову, который вернул петицию с надписью: «По приказанию Министра Народного Просвещения прилагаемая бумага возвращается Действ. Стат. Сов. профессору Менделееву, так как ни министр и никто из состоящих на службе Его Императорского Величества лиц не имеет права принимать подобные бумаги…»
Тогда он ушёл из университета. Последние слова его, произнесённые с кафедры, были: «Покорнейше прошу не сопровождать моего ухода аплодисментами по множеству различных причин». Понимал, что аплодисменты эти грозят его молодым слушателям новыми карами.
Высокий, широкоплечий бородач, с длинными русыми волосами (в нашем представлении Менделеев почему-то чаще всего седой старик), с ярко-синими глазами, удивительно подвижный, весь какой-то заметный, с богатейшей мимикой – таким его описывали современники. Его племянница вспоминает: «Когда он говорил про то, чего не любил, то морщился, нагибался, охал, пищал, например, в словах «церковники», «латынщина», «тенденция…» Профессор Б. П. Вейнберг запомнил его лекции: «Иногда мысли Дмитрия Ивановича так быстро сменялись одна другою, так бежали одна за другою, что слово не могло поспеть за ними, – и тогда речь переходила в скороговорку однообразного, быстрого ритма на средних нотах. А иногда словесное выражение мыслей не приходило сразу, и Дмитрий Иванович как бы вытягивал из себя отдельные слова, прерывал их многократными «мм., мм., как сказать» и, произнося их медленно на высоких, тягучих, почти плачущих нотах, – потом внезапно обрушивался отрывистыми, низкими аккордами, бившими ухо, как удары молотка. Будь я музыкант, я, думается, мог бы переложить лекцию Менделеева на музыку…»
